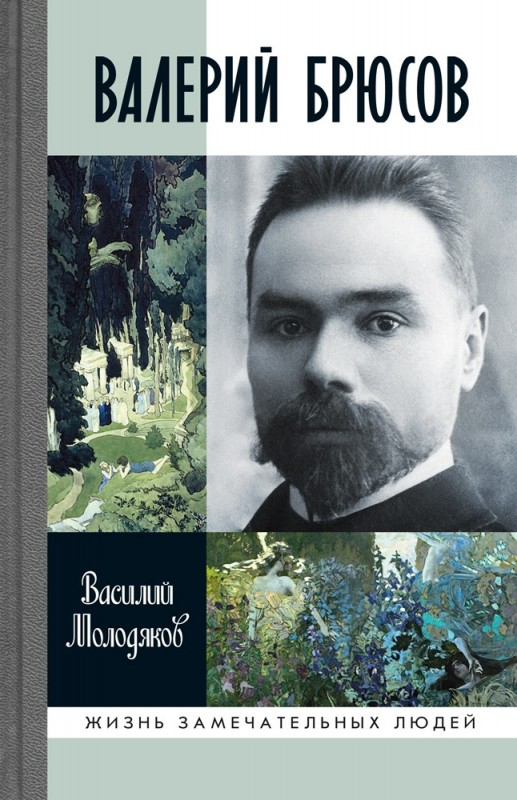«Брюсов видел в искусстве способ преображения жизни».
Василий Молодяков рассказал «Культуре» о своей книге «Валерий Брюсов. Будь мрамором».

– О Вашем герое говорят как о фигуре весьма противоречивой. Он изображал черного мага, но при этом говорил, что теорию дарвинизма освоил раньше, чем научился умножать, был декадентом, но нашел общий язык с советской властью, слыл сердцеедом, но до конца своих дней прожил с одной женщиной — женой Иоанной Матвеевной. Удалось ли Вам отделить подлинную суть поэта от предъявляемых им личин?
– Брюсов действительно очень многогранен, но со словами о противоречивости я не согласен. Это цельная натура, но цельная не значит окаменевшая. Поэт всю жизнь менялся, развивался, старался уловить новое, то, что только еще носилось в воздухе. Не следовал за модой или тенденциями эпохи, а создавал их. Поэтому изучать его жизнь безумно интересно, порой даже увлекательнее, чем его произведения. А если поместить те или иные стихи в контекст времени, вообще волшебно получается. Например, для русской поэзии 1895 года строчка «Моя любовь — палящий полдень Явы» — это бомба, да еще в сборнике под названием «Шедевры». А что касается позы и маски, то символизм и декадентство без них невозможны. Сейчас я работаю над сборником литературных портретов «Декаденты», пытаясь показать это явление в мировом масштабе, так вот, выражаясь словами моего героя, там без личин никуда. Бодлер курил гашиш за компанию с приятелями, потому что это была модная азиатская штучка в тогдашнем Париже. Александр Добролюбов, самый последовательный русский декадент первого призыва и близкий знакомый Брюсова, курил гашиш, потому что его курил Бодлер и потому что для него наркотик был неотделим от «Цветов Зла». Брюсов тоже «баловался» (позже он стал морфинистом — очень печальная тема), но для него стихи всегда были важнее.
– Но почему черный маг?
– Это лишь одна из ипостасей, в какой-то момент очень важная, но не главная и не единственная. Следует помнить, что магом Брюсова усердно изображало его тогдашнее, начала 1900-х годов окружение, прежде всего Андрей Белый. Придумали черного мага и начали им самих себя пугать. А Брюсову понравилось. Он был довольно озорной человек. Не будем забывать, они все были еще такие молодые. В 1903 году, когда начинается пресловутая мистическая дуэль с Белым, Брюсову исполнилось тридцать, Белому — двадцать три.
– Надо сказать, он любил придумывать демонические образы не только для себя, но и для других. Например, в романе-мистификации «Огненный ангел» описал свой любовный треугольник с писательницей Ниной Петровской и Андреем Белым, изобразив ее одержимой страстью фам фаталь Ренатой, его — ангелоподобным графом Генрихом, себя — ландскнехтом Рупрехтом, помогающим женщине вернуть любимого с помощью магии. Все так красиво, а в действительности — несчастная история брошенной женщины, морфинистки, пытавшейся покончить с собой...
– Была ли реальная Петровская «фам фаталь», судить не берусь. Я бы сказал, что это психопатическая натура в психопатическое время. Вроде Андрея Белого. В жизни я бы не хотел общаться с такими людьми. В отношениях с Петровской Брюсов проявил, не удивляйтесь, слабость характера. Он искренне любил ее, но не мог и не хотел уйти от жены. Страшно представить, что было бы, если бы он действительно ушел к Нине... Именно она сделала его наркоманом — и именно за это жена поэта так Петровскую ненавидела. Чтобы понять эту историю во всей ее сложности, надо прочитать переписку Брюсова с Петровской. А ее письма, как и других подруг мужа, Иоанна Матвеевна тщательно сохранила для истории, потому что видела, как бессовестно врут мемуаристы... Вообще Иоанна Матвеевна — великая женщина, заслуживающая отдельной биографии. Ее изображают этакой серой мышкой, а она была умной и талантливой, большой труженицей. На ней держался дом, поэтому Брюсов вряд ли когда-то всерьез думал о том, чтобы уйти от нее. Она знала обо всех его романах и увлечениях — а в их числе была ее собственная сестра Мария, — и, разумеется, их не одобряла. Но она понимала, что судьба свела ее с великим человеком, который без нее пропадет...
– Брюсов всем известен, но складывается впечатление, что он один из самых непрочитанных поэтов Серебряного века. Насколько значим его вклад?
– Брюсов сделал больше, чем кто-либо еще, для создания русского символизма как течения и утверждения его в русской литературе. Но когда это торжество победителей состоялось, он не остановился на достигнутом, а пошел дальше, в том числе критикуя своих бывших соратников. С интересом присматривался к футуристам, стремясь разглядеть в них нечто новое. Его работе в советских учреждениях, к которой он подходил ответственно и профессионально, как ко всему, чем он занимался, надо дивиться не больше, чем его поэтическим экспериментам последних лет жизни, когда он пытался то переэкспрессионистить экспрессионистов, то создать «научную поэзию». В начале двадцатых годов он обрушивался с яростной — и признаться, несправедливой — критикой на поэтов, которые, казалось, должны быть ему близки, включая Мандельштама и Ходасевича. Но они были близки прежнему Брюсову. Бежал ли он «задрав штаны, за комсомолом»? Скорее уж за футуризмом или экспрессионизмом. Удался ли ему этот новый поворот, новый вираж? Критики того времени по большей части считали, что нет, а я думаю, поэтических удач у него больше, чем промахов.

– Что повлияло на его творчество — атмосфера «московской Субурры» с кабаками и домами терпимости, Гёте и немецкие романтики, французские декаденты и «проклятые поэты», любовь к экзотике, увлечение Римом?
– Всё это и повлияло! Брюсов был невероятно любознательным и очень разносторонне образованным человеком. Ему все было интересно, он во всем искал источники вдохновения. В его поэзии главные влияния, конечно, русское и французское (для сравнения: у Бальмонта — английское и немецкое). Римом Брюсов был очарован с гимназических лет — он привлекал его «большим стилем», империей. Брюсов не был сторонником «искусства для искусства», он видел в искусстве способ преображения жизни, которая ему решительно не нравилась, не удовлетворяла его. «Кумир Красоты столь же бездушен, как кумир Пользы», — это его слова. Конечно, Валерий Яковлевич — величайший новатор в русской поэзии рубежа веков, причем не конкретно в чем-то одном, — эксперименты Александра Добролюбова в области формы заходили гораздо дальше, — а в целом. Есть музыка до Вагнера и после Вагнера. Вагнер не все сам придумал, но он в корне изменил европейскую оперу, при том что свои произведения называл не операми, а музыкальными драмами. Есть русская поэзия до Брюсова и после Брюсова. Без Пушкина, и особенно без Тютчева, Брюсова бы не было. Но после Брюсова русская поэзия стала другой, чем она была до него.
– Он стал автором ряда работ о Пушкине. Каков его вклад в пушкинистику?
– О Брюсове-пушкинисте мнения высказываются противоречивые. Отмечу два момента. Во-первых, он был ученым. Это не дилетант, балующийся наукой, не эссеист-импрессионист, а исследователь с университетским образованием, правда историческим, к тому же перфекционист. Во-вторых, он создал моду среди литераторов-модернистов на филологические разыскания, вплоть до текстологии, а не на интерпретации в духе Мережковского. В последние годы жизни он пытался в духе времени революционизировать Пушкина — так не он один. Для того чтобы оценить вклад Брюсова в науку о литературе, надо сначала качественно переиздать его работы.
– Еще один неожиданный момент — «крестьянство» Брюсова. Свою автобиографическую повесть «Из моей жизни» он начинает словами: «По происхождению я — костромской крестьянин». Насколько это важно в его жизни и творчестве?
– Я немало думал над этими словами. Полагаю, деревенское происхождение было для него менее важно, чем купеческое, городское, — вспомните его прекрасную повесть «Обручение Даши». Но в одном из поздних стихотворений «Не память» — по-моему, превосходном — он значимо пишет: «Во мне вдруг вздрогнет доля деда, /Кто вел соху под барский бич, /И (клич сквозь ночь!) я снова, где-то, — / Все тот же старый костромич». Лично мне «крестьянство» Брюсова видится в его отношениях с Клюевым. Крестьянский поэт пишет Блоку и, предъявляя ему счет от имени народа, ставит того в положение «кающегося дворянина». Блок поддается и начинает каяться. Попросту говоря, мужичок-хитрован «разводит» городского барина. С Брюсовым этот номер не прошел. Его переписка с Клюевым сразу ограничилась литературными делами. Они обмениваются фотографиями с почтительными дарственными надписями, Брюсов помогает Клюеву печататься, пишет предисловие к его первой книге «Сосен перезвон», — а за предисловия рекомендательного характера к книгам молодых поэтов он брался крайне редко, — но в упор не видит просьбы Клюева издать книгу его стихов в «Скорпионе». Мне кажется, что Брюсов включил «старого костромича», и Клюев это довольно быстро понял.

– Вы — известный историк и коллекционер, многие материалы Вашего собрания использованы в книге. Как пришли к Брюсову?
– Первым поэтом Серебряного века для меня стал Бальмонт, прочитанный в 13 лет. К Брюсову я пришел позже, но сразу оценил его во всех ипостасях — как поэта, прозаика, критика, переводчика. Потом готовил том его автобиографической и мемуарной прозы, изданный в 1994 году, работал в архиве для восстановления многочисленных купюр в повести «Моя юность», собирал материалы для комментария — и впервые осознал, насколько интересна личность Брюсова, насколько она малоизвестна, насколько оболгана недоброжелательными мемуаристами. Я понял, что биографии Брюсова нет. Есть книги с анализом его творчества и канвой основных событий, но нет жизнеописания. И решил, что должен его написать.
Дарья Ефремова, «Культура»