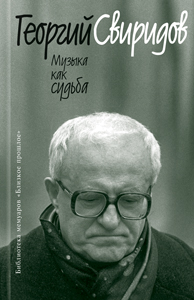Музыка как судьба
Разные записи
Георгий Васильевич Свиридов… Имя композитора дорого каждому, кому не безразлично понятие Родина, кто, несмотря ни на что, ощущает неразрывную связь со своими корнями, своей землёй, своим народом. В 2002 году в издательстве «Молодая гвардия» впервые увидели свет дневники Георгия Васильевича. Сам композитор называл их скромно — «Разные записи»; книге было дано символическое заглавие — «Музыка как судьба».
Сказать, что эта книга в наше «нечитающее» время произвела эффект разорвавшейся бомбы — значит ничего не сказать! Очень быстро она стала библиографической редкостью, а те, кто тогда не успел приобрести заветный том, стали ждать второго издания. По многим причинам ожидание растянулось почти на 15 лет.
И вот, наконец, в начале 2017 года издательство «Молодая гвардия» преподнесло своим читателям поистине дорогой новогодний подарок. Назвать его простым переизданием будет ошибкой, и дело тут не только в обновлённом оформлении. Главное — текст, лишь незначительно сокращённый, дополнен новыми материалами и комментариями, специально расшифрованными и подготовленными именно для этого издания.
Музыка как судьба
Из дневников Георгия Свиридова
(Библиотека мемуаров «Близкое прошлое»). — 795 с. — 7000 экз. Георгий Свиридов. Музыка как судьба. — М.: Молодая гвардия, 2017.
Тетрадь 1963 года
1963 год
29 марта — заметки
Искусство должно быть (стать) простым, ибо оно должно быть обращено к Богу.
Обращаясь к людям, можно надоедать им своими «сложностями», ища сочувствия, понимания, сострадания и проч.
Беседовать же с Господом нельзя на «сложном» языке.
<…>
Говорят:
«История музыки начинается с Глинки». Это неверно. Таким образом, русская музыка лишается фундамента, корней.
История русской музыки должна начинаться с духовной музыки (церковной) и народных песен. Сейчас никому не приходит в голову начинать историю русской живописи с Боровиковского и Левицкого. История живописи начинается с Рублёва и др. старых иконописцев. Музыка сегодня лишена корней, лишена почвы.
Своеобразие и оригинальность Мусоргского в том и состоит, что он традиционный русский композитор, продолжающий традицию исконно русскую — духовную и народную.
Глинка — композитор европеизированный. Народную песню он лишает её первозданности — слишком прямолинейно европеизирует её. Камаринскую — симфонизирует (опять-таки европеизирует). Украшает и обряжает.
Мусоргского, наоборот, до сегодняшнего дня пытаются обрядить и украсить. Каждое время старается нарядить его в «модные» одежды.
Вначале Римский-Корсаков, теперь Шостакович. Пройдёт время — изменится оркестровая манера, и вновь кто-нибудь будет «исправлять» Мусоргского.
Что же происходит?
И сегодня Мусоргский чужд, враждебен и непонятен в своей глубине и сущности среде академической. Исторически «Могучая кучка» потерпела поражение. До сегодняшнего дня торжествует линия академическая, линия Рубинштейна — Чайковского, линия ремесленно-академическая.
Рубинштейн, воспитанный в Германии, пользуясь покровительством царицы-немки, создаёт в России консерваторию по немецкому образцу. И до сегодняшнего дня наша консерватория онемечена. Тысячи людей воспитываются на музыке Баха, Бетховена, Брамса. Главным образом и исключительно на европейской музыке.
Изучается фактически главным образом венская музыкальная школа. Тысячи людей обучаются ремеслу инструментальному. Привыкают считать музыку венскую музыкой высшего порядка. Эту музыку (венскую) мы учим писать и исполнять в консерватории.
Какое место в этом ряду могут занять Даргомыжский, Мусоргский, Бородин? К ним нельзя подойти с этой меркой. Их нельзя изучить; вернее, нельзя проникнуть в их сущность, подходя к ним с этих позиций. С этих позиций можно только «исправлять ошибки» Мусоргского, расставлять не поставленные им знаки препинания.
Изучать Мусоргского и понять всё историческое значение «Могучей кучки» можно только, переменив весь взгляд на музыку, всё обучение в консерватории. С точки зрения немецкой — русской музыки не существует (Р. Штраус). Признавая на словах Мусоргского (Мусоргский гениален, но не умел оркестровать), практически они его не только не признают, но не понимают. Попробуйте «исправить» храм Василия Блаженного, руководствуясь правилами итальянской архитектуры.
Ни в одной области духа, ни в литературе, ни в живописи, мы так не отстали и так не висим в воздухе, как в музыке. Фактически мы изучаем и насаждаем музыку чужую, пусть даже прекрасную, но чужую. Никому не придёт в голову учить литературу и воспитывать литераторов на Гёте, Шекспире и Бальзаке. Воспитывают на Пушкине, Гоголе, Достоевском и Толстом. Тогда естественно будут усвоены и займут своё важное место в сознании и Шиллер, и Шекспир, и Бальзак.
Европейская немецкая музыка вышла из танца, русская — из песни (народной и церковной).
Додекафония — естественное развитие венской симфонической школы. Симфонизм естественно пришёл к Шенбергу (опять-таки венская школа). Другого пути нет. Академизм в настоящее время — рутина и эпигонство.
Додекафония — конец, смерть симфонизма. Круг замкнут. Должно появиться явление новое, качественно новое.
В России не исчерпаны и не изучены традиции русской музыки.
Сравнение Пушкина и Глинки — неточное, неверное.
Пушкин — явление куда более широкое, яркое и более национальное; вернее, народное. В Пушкине главное — народное, и европейская культура не подавляет и не искажает его сущности. Явление поразительно гармоничное (Пушкин), поразительно глубокое и многообразное. Из него вышла вся русская литература.
В музыке с Пушкиным скорее можно сравнивать Мусоргского. Мусоргский — величайший гений. От него, как и от Пушкина, берут все. Мусоргскому дано было прочувствовать и выразить главное: дух (душу) народа; прозреть «невиданные перемены, неслыханные мятежи». Время самозванцев.
Мусоргский — это начало декадентства (цикл «Без солнца»). Безысходность и упадок. Отсутствие воздуха и поэтому — смерть.
Время виртуозов никогда не было временем развития искусства. Кастраты (певцы в Италии) знаменовали собой падение вокальной культуры. Наши бесчисленные и преуспевающие виртуозы-инструменталисты свидетельствуют о падении инструментальной музыки. Артист идёт вслед за творцом (должен идти), когда творец обслуживает артиста — наступает крах.
Православие впитало в себя элементы древнегреческие и древнееврейские.
До нас не дошла древняя еврейская музыка. Думаю, что изменённая и трансформированная, она могла войти в древнюю православную церковную музыку. Отсюда еврейские хоры Мусоргского, чуткость его к востоку (еврейству), звезда Давида на его могиле. Мусоргский — традиционный русский композитор. После него эта глубинная традиционная линия русской музыки прерывается.
Прокофьев продолжил линию «Детской». Народные сцены в «Войне и мире» — внешние, изобразительные и ничего общего с Мусоргским не имеют. Прокофьев — композитор национальный, но не народный.
Шостакович в «Еврейских песнях» берёт внешние приёмы, развивает речевую интонацию, но по духу чужд Мусоргскому. Шостакович продолжает линию Рубинштейна, Чайковского, Глазунова, Малера — композиторов-симфонистов и эклектистов.
<…>
Искусство Европы, появившееся в конце XIX — начале XX века, не только являлось продолжением и развитием уже существующего до той поры. Оно принесло качественно новые черты, связанные с решительным отказом от идеи, питавшей европейское искусство многие сотни лет до той поры. Новым для искусства явился — атеизм, проповедь антихристианства. Как и всякое «анти», возможно, оно и не создаёт больших ценностей, сущность его (всякого «анти») — разрушение, а не созидание.
Отсюда: разрушение веры, разрушение личности, разрушение формы, языка, уничтожение человекоподобия (Христос), вообще всякого изображения человека (то, что запрещено иудаизмом), в живописи например. Замена человека — значком, символом, беспредметность.
Музыка — особенно сильно связанное с верой искусство. Не говоря уже об искусстве богослужебном; например, народные песни, связанные с обрядами в основе своей религиозными. Да и сами чувства людей, за истекшие две тысячи лет, воспитаны догматами христианства: правдивость, сострадание, любовь — основа веры Христовой, самопожертвование
Гуманизм — производное от христианской религии, измельчение её.
Вот против этих-то чувств и воюет «новое» искусство, стараясь разрушить в человеке чувства святости, любви к ближнему, сострадания, любовь.
Тетрадь 1984 года
Русская опера после «Китежа»1
Если взять высшую высоту, достигнутую русским оперным театром, то она окажется не точкой и не вершиной, а целой горной грядой. Я имею в виду такие произведения, как «Иван Сусанин», «Русалка», «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Хованщина», «Пиковая дама», «Сказание о граде Китеже». Движение от этой гигантской гряды уже давно наметилось (например, в опере Прокофьева «Игрок») и активно продолжается вплоть до наших дней, когда оно стало особенно стремительным. Это — крутое движение вниз. Думать иначе — это закрывать глаза на то, что видно всему миру. Падение русской оперы так же стремительно, как и её взлет. Оно совершилось всего лишь на протяжении нескольких десятилетий. Но это не значит, что невозможно новое движение в высоту. Такое движение возможно, если появится идея, которая увлечёт нас в эту высоту.
Тогда станет возможно и появление высокой музыки, ибо талантливых людей всегда много. (Однако их талант может выражаться в самом разном виде творчества.)
01.02.1984
Есенин и Клюев
Возражая против какого-либо излишнего критицизма в отношении творчества своего учителя
Дурные слова Есенина о Клюеве (никак не делающие ему чести) специально раздувались критикой и литературоведением с целью уничтожения Клюева как поэта и искоренения его имени из истории русской литературы. Заодно с этим шельмовался и Есенин.
О рекламе
Реклама занимает огромное место в нашей эпохе. Порождение капитализма, она пронизала всю современную жизнь и стала непременным, обязательным спутником «коммерческого» искусства. Умение «делать» славу стало поистине виртуозным. Этим занимается подчас целый штат людей, состоящих на службе в синдикате, управляющем искусством. Раньше композитора судили по его музыке. Она шла впереди своего творца, люди судили о ней, спорили… Медленно устанавливались репутации, даже таких музыкантов, как Бетховен, которому Гёте или Стендаль предпочитали Моцарта или итальянцев.
Но теперь действуют по-иному. По возможности смолоду избирается человек, занимающийся художественным промыслом, допустим, поэт или композитор. «Салон» приобрёл размах общегосударственный. Он стоит выше государства, которое, казалось бы, всесильно. (Но в этом деле оно не всесильно!)
Смолоду надувается слава, безудержно нагнетается. Он ещё не создал ничего путного и вообще едва начал сочинять, а уже поставлен на пьедестал и показывается всему миру.
Так возникают дутые репутации, дутые фигуры, похожие на большие мыльные пузыри.
Эти пузыри, однако, совсем не безобидны
Пишется много музыки на один раз
Для «фестиваля», куда собирается своя публика,
Музыка на один раз, на одно исполнение, на одно прослушивание. Хотелось бы напомнить одну мысль: сочинение, которое нельзя прослушать второй раз, не стоило слушать и первый.
О «понятности» Пушкина
В связи с разговором о непонятности других поэтов, напр<имер>, Маяковского, часто говорят: «А вот Пушкин понятен всем».
Это заблуждение. Если бы Пушкин стал понятен всем, он давно бы перестал существовать, был исчерпан и давно забыт.
Глубина Пушкина редко кому доступна, она слишком глубока.
Есть труднодоступность речи, сознательная её усложнённость, метафоричность. Как правило, она связана с недостаточной глубиной мышления, отсюда завитушки языка, гиперболы, разомкнутые строчки, всякие формальные ухищрения
А есть труднодоступность мысли или душевного движения, глубина, тонкость, необычность того или другого, хотя мысль или душевное движение выражены на простом, понятном, родном языке.
Эклектизм
Поэты «эстрады» и подобные же музыканты
На знамени этого движения написано: «Воинствующий эклектизм». Евтушенко, Рождественский, Вознесенский и подобные им композиторы = всё эклектика. Противовес им — поэзия и музыка, опирающаяся на национальную природу и культуру.
Чувство музыки даётся от природы, и далеко не все одарены им. Это чувство врождённое, и ни культура, ни воспитание не могут зародить его, хотя могут помочь ему развиться, усовершенствоваться.
Советский «снобизм»
Советский «снобизм» особенно омерзителен на фоне Уренгоя, БАМа, бесчисленных ракет, нависших над миром, и Продовольственной программы. Этот советский «снобизм» — порождение самой злобной в мире буржуазии, «микроскопической», полусытой советской буржуазии, ненавидящей свой народ («быдло» и «мещанство» — как его называют в Лит<ературной> газете, этом рупоре сов<етского> буржуа) и также ненавидящей (из зависти!) настоящих западных буржуа.
Поэт Рубцов — какая-то с детства раненая душа. Источала кровь она.
Поэзия Рубцова — Документ эпохи — это Россия детдома, мрак Севера, казармы, общежития, кабака.
Ощущение безотцовщины, безматеринства, бездомности, бесприютности, ненужности.
О большом и малом чувстве Родины
В наши дни (кажется, с руки Твардовского) распространилось малое, «местническое» чувство Родины, как чего-нибудь приятного, симпатичного, милого сердцу: две-три берёзы на косогоре, калитка, палисадник, баян вдалеке, сирень в городском саду, деревенская околица и пр. Всё это, разумеется, очень симпатично, но совершенно ничтожно.
Понятие Родины — очень объёмно, оно — всеобъемлюще, грандиозно. Оно включает не только всё, чем ты живёшь, но и самый воздух, которым человек дышит, его прошлое, нынешнее и грядущее, где суждено жить и нам (как и людям прошедших поколений) своими потомками, своими делами, хорошими и дурными.