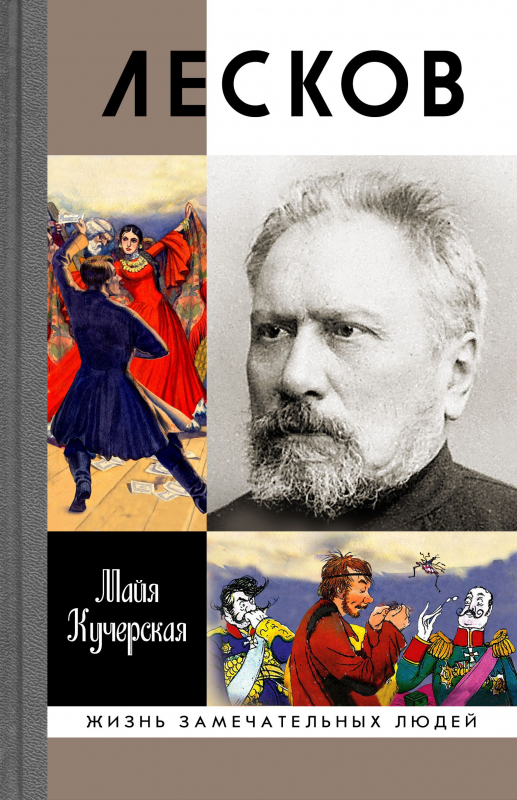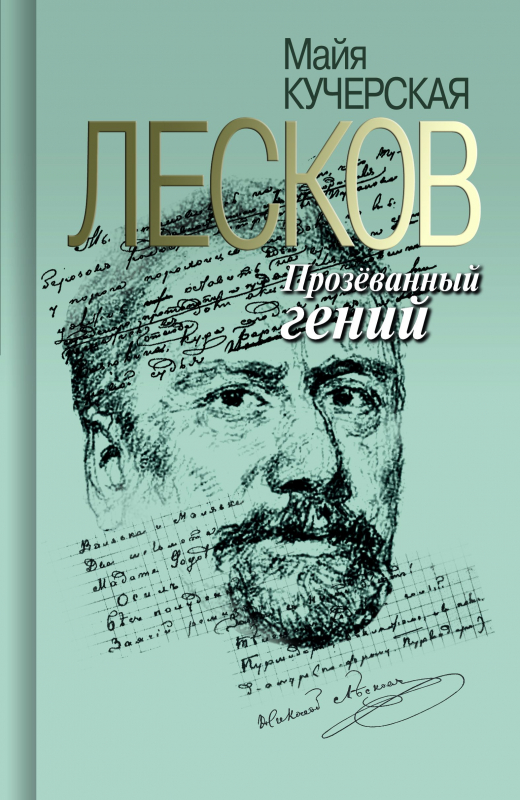«Лескову удалось описать человека без воли и дна»
Майя Кучерская — о слове, танцующем чечеточку, праведниках-чудиках и не прижившихся в русской литературе женщинах-вампирах.

Из всех добродетелей Николай Лесков больше всего ценил независимость, любил патриархальный русский мир и мечтал жить там, где нет схваток, подлости и страстей еще и потому, что слишком хорошо знал их разрушительную силу. О противоречиях, терзавших создателя «Левши», рассказала Майя Кучерская.
— Заглавие вашей книги — «Николай Лесков. Прозеванный гений» — сразу определяет проблему. Кто его прозевал и чем писатель умудрился не угодить всем и сразу — современникам, литературоведам, учителям словесности?
— Ну на фоне того шума, который возник в связи с его недавним 190-летием, прозеванность пока потеряла актуальность. Если же говорить всерьез, то литература XIX века читается сегодня все с большим трудом, и Лесков, пишущий затейливо и прихотливо, с завитушками и языковыми узорами, слишком сложен для современного восприятия. Советские идеологи недолюбливали его за антинигилизм и внимание к церковной теме, и в хрестоматии попадали преимущественно сочинения, где он говорил о крепостных — «Тупейный художник», «Очарованный странник», «Левша». Но и во времена самодержавия он был не ко двору, слишком резко критиковал церковь.
В 1880-е, когда воцарился Александр III, а вместе с ним и Константин Петрович Победоносцев, книги Лескова подверглись цензурным запретам. В особенности, конечно, публицистика, в которой он утверждал, что церковь нуждается в реформировании, поскольку слишком следит за соблюдением формы, а главного — проповедовать любовь — не исполняет. Так что героя моего вообще никакая власть не любила, и недаром: из всех добродетелей Лесков больше всего ценил независимость. «Мой идеал счастья — не ощущать страха», — указал он в ответах, заполняя одну анкету. И там же сообщил, что его девиз «Бог не выдаст, свинья не съест» — это ведь тоже про бесстрашие.
Многих современников раздражали увлеченность Лескова патриархальным русским миром, его наивные герои-«антики». Одни просто отказывали ему в таланте, другие видели в нем реакционера, врага демократических ценностей, ходили даже слухи, что роман «Некуда» написан по заказу Третьего отделения. Лучше всех о Лескове высказался Чехов: «Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-расстригу», разглядев в нем эстета и художника, любителя духовенства, в то же время отторгавшего официальное православие.
— Лесков вывел галерею странных характеров: бессознательный, но все же мессианский тип вроде Ивана Северьяновича Флягина, героя «Очарованного странника» и Левши, и мужичок-хитрован, у которого «правда босиком ходит да брюхо под спиной носит». Что он понял о русском человеке особенного, чего, может быть, не поняли Достоевский и Толстой, и не было ли в этом иронии? Вот зачем Левша подковал аглицкую блоху — она же танцевать перестала?
— Конечно, в этом была ирония. Вспомним, как он описывал внешность своих героев: Левша косоглазый, с родимым пятном на половину лица и все «волосья при ученьи выдраны». На добра молодца, каким потом изображали его советские иллюстраторы, герой не тянет. Или персонаж его ранних рассказов Котин Доилец — сразу не разберешь, мужчина это или женщина, но при своей полной нищете и странности он усыновил двух сирот. Андрогинные персонажи и в других сочинениях Лескова изредка попадаются…
— Есть у Лескова удивительный женский характер — Катерина Измайлова из «Леди Макбет Мценского уезда». Это же античная трагедия, Медея. И она, как и Иван Северьянович, подчинена стихии.
— Только водоемы разные. «Очарованного странника» несет широкая полноводная река, а «Леди Макбет», если и речка, то горная, со страшными порогами, бурная и жгучая. Катерина Львовна во власти страстей, которые ведут ее к самым чудовищным преступлениям.
— Редкий тип героини в русской литературе.
— Да, вы правы. Женщины-злодейки нравились европейским романтикам, но это были фам фаталь, а не преступницы. В русской литературе женщина-вамп — большая редкость, как в общем-то и в русской действительности. Русские женщины — серийные убийцы, жившие в позапрошлом веке, нам неизвестны. В Англии, Франции легко. В России, вероятно, они тоже встречались, но значительно реже. Шумных историй не было ни одной: забитость и богобоязненность русской женщины, думаю, сыграли тут свою роль.
Удивительно и то, что Лесков написал свою повесть о леди Макбет в один из самых счастливых периодов своей жизни в Киеве, когда был страстно влюблен в Екатерину Степановну Бубнову, с которой впоследствии прожил много лет и родил сына. Текст проникнут любовной негой, там нет откровенных сцен, но намеков на эротику и страсть множество. И героиню зовут Катерина. Хотя в Екатерине Бубновой не было ничего зловещего: на момент знакомства это была добропорядочная замужняя дама, мать четверых детей, что не помешало ей уйти от мужа, воссоединиться с Лесковым и родить пятого ребенка.
— В книге подробно рассказывается о том, как непросто складывалась семейная и личная жизнь писателя, что в общем-то не вызывает сочувствия. Он изводил жен, мечтал мостить дорогу женскими сердцами, был невыносимым отцом. Характерна реплика его приемной дочери Вари, которой он дал две пощечины за то, что та посмела завить себе волосы: «Ты о Христе пишешь, а сам черт чертом, только рогов недостает».
— В том-то и состояла его разорванность. Лесков был горячим, страстным и безудержным человеком, не всегда мог сдерживать себя, но понимал, что идеал находится совсем на другом полюсе, там, где тишина, покой, святость. Но кротость и жертвенная любовь ему не давались. Это, видимо, его надламывало. Он верил в очеловечивающую силу христианства: служение ближнему, чистота души, внутренняя цельность, для него все это было не безвкусной жвачкой из очередной воскресной проповеди, а предметом любви и веры.
Он искал тех, кто обладает этими сокровищами. Людей до такой степени кротких, героических, добрых, смелых, кажется, не существовало на белом свете, тогда он их придумывал. Лесков — христианский идеалист. Он никогда не был таким изощренным психологом, как Достоевский или Толстой; наоборот, ему особенно удавались персонажи, существовавшие словно вне психологических законов, люди-иконы, обладатели образцовой нравственности или умений: старичок-травник Крылушкин, молочник Голован, княгиня Протозанова, мастер-волшебник Левша, солдат на часах Постников.
— Вы пишете, что Лесков стал фигурой перехода от классики к модернизму и чуть ли не первым из русских литераторов, кто осознал, что объектом изображения может быть слово как таковое — «с его клекотом, шипением, цоканьем, мычанием». Как он повлиял на XX век? Без Лескова был бы возможен, например, Платонов?
— Мне кажется, у Платонова другие корни. Это же язык пролетариев, канонизированная безграмотность речи, напоминающая детскую. Не знаю, ощущал ли сам Лесков, что делает слово объектом изображения, но в его прозе явственно ощущается немотивированность неологизмов. В том же «Левше» «бюстры» вместо «люстры», «укушетка». В этом словотворчестве не было никакой прагматики, ведь он просто хотел рассказать историю про погибшего мастера, про нашу жизнь. Можно было рассказать ее простым языком, но он не хотел простым, он хотел таким.
— Были ли у него предтечи и последователи?
— Он любил Гоголя за его «Вечера». Подражал его сказу, имитации устной речи, красочности, задорному языку. Лесков вышел не из шинельного Гоголя, а из диканьковского. И он тоже цветной. Последователей много, автор «Очарованного странника» был интересен Горькому, Замятину, Хлебникову, Зощенко, Олеше, но самым влюбленным в Лескова писателем XX века остается Алексей Ремизов. Фольклорный, жизнестроительный, придумавший обезьянье царство и царя Асыку, игравший маленького Лешего в жизни, он был плоть от плоти лесковский.
— Как думаете, почему Лесков не написал значительного романа? «Некуда» и «На ножах», кажется, считаются неудачными.
— Думаю, больше всего он любил анекдот в старинном смысле слова — короткую, ядреную историю, приправленную перчиком. Это связано с его вкусом к изложению устной речи на письме. Анекдот — это ведь разговорный жанр: важно, не что рассказано, а как. Роман — по крайней мере в те времена, когда сочинял Лесков, — это картины общественные и психологические, это про отношения и людей, вообще не про язык. Лескову это было не настолько интересно. Он делал попытки, но получались либо иконы, либо карикатуры. Это принципиально другой тип дарования, чем у Тургенева, Толстого и Достоевского.
Дарья Ефремова, «Известия»