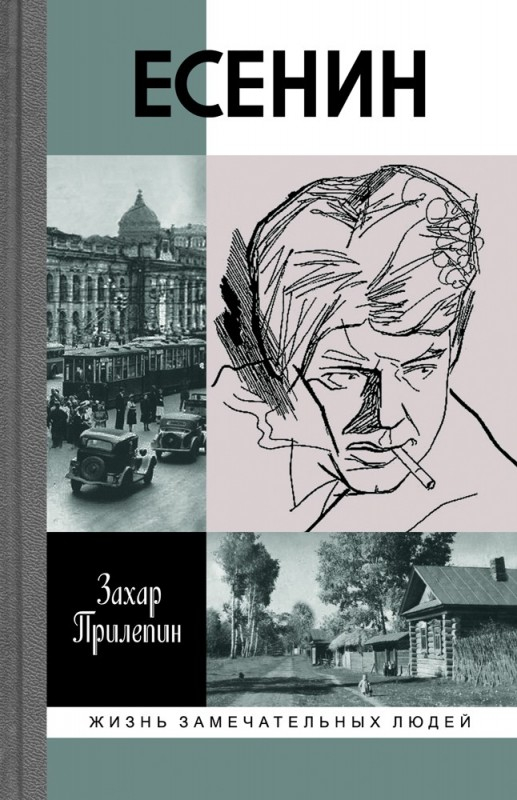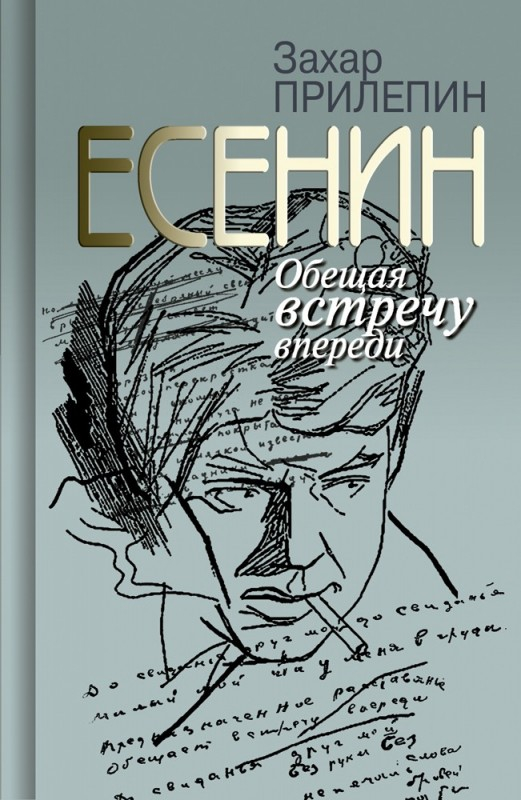Больше чем биография: Сергей Есенин глазами Захара Прилепина
В серии «ЖЗЛ» вышла большая, объемом более тысячи страниц, книга Захара Прилепина, посвященная жизни Сергея Есенина. Пока отзывы о ней публикуют в основном издания вроде газеты «Завтра», однако, по мнению Леонида Юзефовича, который любезно согласился написать об этом издании для «Горького», оно заслуживает самого пристального внимания, а считать его рядовой биографией нет никаких оснований.
Это одна из лучших биографий, которые я когда-либо читал.
Впрочем, это не вполне биография.
Это документальная проза, мастерски выстроенная, интонационно и ритмически выверенная, насыщенная реалиями хорошо знакомого автору мира, населенная десятками полнокровных персонажей, которые не только в качестве свиты играют короля, но живут сами по себе. Наконец это просто захватывающее чтение. Начиная со второй четверти книги читаешь с нарастающим интересом, а от последних четырех сотен страниц трудно оторваться. Я прочел их за полтора дня.
Такие книги не пишутся, а складываются в процессе самой жизни. Отсюда многозначность, многослойность прилепинского «Есенина», воспринимаемые не как результат сознательных усилий, что часто вызывает недоверие, а как производное от многолетнего сосуществования автора и его героя. За годы близости отношения между ними не могли не меняться, и это оставило в книге свой след.
Не каждый писатель способен написать биографию, тем более биографию другого писателя. Статью — пожалуйста, ведь в таком тексте можно по-новому выявить себя на фоне другого, а потом с легким сердцем разорвать эту ни к чему не обязывающую связь, но написать такую биографию, как у Прилепина, — значит быть готовым если не на полное самоотречение, то на самоумаление и подавление своей писательской индивидуальности точно. Ты можешь втайне отождествлять себя с героем или, по крайней мере, видеть свое с ним сходство и сходство его эпохи с твоей собственной, но не это заставляет тебя тратить свою единственную жизнь на реконструкцию чужой. Истинная причина — любовь или, если выражаться менее пафосно, жгучий, отчасти необъяснимый интерес, который для пишущего человека есть разновидность любви. На этом причинно-следственная цепь обрывается. Любовь, в отличие от ненависти, причин не имеет.
Биограф свободно выбирает героя и тут же лишается свободы. Теперь его сковывает чувство долга перед избранником и всеми, с кем он был связан. Все они как смогли прожили свою жизнь и умерли, этого достаточно, чтобы отнестись к ним с уважением. Прилепин не судит их и не пользуется ими, чтобы через них высказать что-то для него важное. Даже для какого-нибудь вороватого Ивана Приблудного у него находится доброе слово. В огромной книге о самой, может быть, важной и страшной эпохе русской истории, о временах, когда ангелы и демоны то и дело менялись личинами, нет сколько-нибудь заметных отрицательных персонажей. Это высшее писательское искусство — уметь сказать правду, никому не предъявляя обвинений и не вынося приговоров. Ну, может быть, по какому-то частному поводу. А человеку как личности, всей его жизни — никогда.

vk.com/zaharprilepin
Несколько лет назад Прилепин выпустил отличную биографию Леонова, но при ее чтении пульс мой не учащался. Кто-то любит Леонова, кто-то предпочитает Добычина или Бабеля, а кто-то и вовсе Ивана Шмелева. Я спокойно отношусь ко всем этим любовям. Ни с Леоновым, ни с Бабелем я не делю ложе и не напеваю абзацы их прозы на утренних прогулках. Иное дело — поэты. Здесь мои чувства сильны, а вытекающие из них мнения не всегда справедливы. Помню, как один хороший прозаик сказал при мне, что считает Андрея Белого поэтом более значительным, чем Блок. С тех пор этот прозаик для меня не существует. Думаю, это ревностное чувство не чуждо и любящему поэзию Прилепину, а уж как оно было близко его герою, и говорить нечего. Тем не менее автор ему не поддался — ни один поэт здесь не унижен за счет Есенина, ни одному не указано его место в прихожей.
Есенин не принадлежит к числу самых моих любимых поэтов, но, как всякий выросший в России человек, я помню наизусть десятки его строф и сотни строк. Он во мне растворен — с детства, с маминого голоса, с одной из двух поэтических книжек в нашей домашней библиотеке (вторая — Блок, Маяковский появился позже; Пушкин и Лермонтов не в счет). Некоторые периоды моей жизни четко маркированы есенинскими стихами. Когда в юности я жил в Забайкалье и один из друзей написал мне, что моя оставшаяся в Перми подружка крутит роман с нашим общим приятелем, я, помню, твердил целыми днями: «Пускай ты выпита другим, / Но мне осталось, мне осталось / Твоих волос стеклянный дым...». Тот факт, что волосы изменницы никак не подпадали под такое определение, не имел значения. Эта девушка и тот приятель, у которого был с ней роман, и друг, известивший меня о ее неверности, давно умерли, но есенинский «стеклянный дым» до сих пор рвет мне сердце.
За последние лет десять я прочел несколько биографий русских поэтов ХХ века. Мне кажется, главная проблема этих прекрасных жизнеописаний — в герое. Он остается набором сведений о нем или выглядит как человек, который позировал художнику, стоя за москитной сеткой. Иногда слышишь, что полезнее прочесть сборник документов и воспоминаний о каком-нибудь историческом персонаже, чем его биографию. Как историк я должен разочаровать любителей первоисточников: глядя на героя глазами разных людей в разные периоды его жизни, мы никогда не сложим из рассыпанной перед нами мемуарной мозаики цельный образ, если не посвятим этому не очень благодарному занятию долгие месяцы, а еще лучше — годы. Кто-то должен собрать вместе кусочки смальты и не просто разложить их в правильном порядке, но и дохнуть на них собственным тварным теплом.
Первую пару сотен страниц прилепинского «Есенина» прочитываешь скорее из добросовестности, с чувством, что автор отдал тут долг условностям, а так-то сократил бы константиновское детство или даже отрубил бы его, как Чехов советовал поступать с началом рассказа, когда рассказ закончен. Лишь позже понимаешь, что это позволяет Прилепину в дальнейшем просто рассказывать, избегая иссушающих текст объяснений. Первая пара сотен страниц делает героя тяжелым и в силу этой тяжести — понятным, как заложенный в основание шахматной фигуры свинец придает ей устойчивость. На третьей сотне из тысячи с лишним книжных страниц вдруг замечаешь, что, хотя автор по-прежнему ничего тебе не объясняет и не пытается залезть в душу герою, ты вдруг начинаешь его понимать. Герой не разобран, что у него внутри, не вполне ясно, но никаких вопросов его поведение больше не вызывает. Более того, начинаешь испытывать живейшую симпатию к этому не особо, в общем-то, и приятному, хитроватому, чудовищно тщеславному Сереже Есенину. Прилепин сумел сделать так, что мы почти физически чувствуем отмеченное всеми современниками невероятное есенинское обаяние. Масштаб личности поэта угадывается еще и по силе воздействия его на людей, а не только по стихам.
Обычная правильная биография — жанр рациональный, читатель шагает над бездной по прочному мосту из цитат и фактов, едва чувствуя дыхание клубящейся между опорами тьмы. У Прилепина мост подвесной, шаткий. Он не фантазирует, он всего лишь комментирует, иногда позволяет себе дорисовывать картинку, но мы все время ощущаем смешанные с ужасом и отчаянием азарт и счастье подлинной жизни, не сводимые к сведениям о ней.
Вот Есенин устраивает очередной скандал, попадает в милицию и проводит там ночь. А утром следующего дня одновременно выходят «Известия» с его «Железным Миргородом» и «Правда» со статьей Троцкого, где Есенин назван одним из трех, наряду с Маяковским и Тихоновым, лучших советских поэтов. Рассказ об этом Прилепин завершает необязательной вроде бы ремаркой: «Сентябрьское утро; один из главных поэтов огромной страны, жмурясь на солнышке, помятый и улыбающийся, выходит из отделения в сопровождении любящей его брюнетки (Галины Бениславской, которая вызволила его из заточения. — Л. Ю.)... Галя чуть поддерживает Сергея, они проходят мимо лотка, где продают две главные государственные газеты; в одной этот поэт клянет капиталистический Запад, во второй — большевистский вождь со всеми неизбежными оговорками славословит поэта. Жизнь во всей ее полноте».
Кто-то поморщится, читая это никакими документами не подтвержденное «жмурясь на солнышке», но только не я. Тут же, через десятилетия и прочие разделительные вехи, я чувствую родство с этим везунчиком. Мне легко представить себя, молодого, в той же ситуации. Разве что вместо брюнетки будет блондинка, вместо «Известий» — газета «Молодая гвардия», орган пермского обкома ВЛКСМ, с моими стихами, а вместо «Правды» — «Вечерняя Пермь» с благосклонной рецензией на выпущенный областным издательством поэтический альманах, на обложке которого в числе прочих есть и моя фамилия.
В книге множество рассеянных по тексту точных мыслей и наблюдений. Они потому и волнуют, что не имеют ничего общего с отвлеченным умозрением и, чувствуется, родились в тот момент, когда автор пропускал через себя именно этот кусок жизни героя. Рассказ о событиях, слитый с размышлением о них как о частном случае чего-то большего, превращает биографию Есенина во что-то большее, чем просто биография.

litfund.ru
Вот, говоря об умирающих отношениях Есенина с имажинистами, Прилепин замечает: «Есенин отдалялся от имажинизма не в силу исчерпанности школы, — хотя брать оттуда ему действительно было уже нечего, — а в силу исчерпанности дружбы или, шире, молодости».
Или о состоянии Есенина после внезапной смерти друга, поэта Ширяевца: «Он ведь видел его за пять дней до смерти, потому и был потрясен... Не может же смерть без каких-то предварительных кружений взять и клюнуть в голову! Так быстро можно только самому собраться и уйти. И причина ухода вовсе не должна быть социально вычерчена и очевидна. Сама по себе жизнь — достаточная причина, чтобы умереть».
Есть здесь и еврейская тема — куда от нее денешься в книге о Есенине. Мне как «носителю еврейской крови» (выражение Прилепина применительно к Шершеневичу и Мариенгофу) кое-какие вещи могут быть здесь неприятны, но ни малейших оснований оскорбляться у меня нет. Все сказано прямо и в то же время деликатно. Это вообще особый человеческий, а как следствие — и писательский дар: без специальных усилий, без натужности, которая сводит на нет благие намерения, всех понимать, но неизменно держаться той стороны, которую выбрал как свою.
От себя добавлю, что, когда за обвиненного в антисемитизме Есенина вступались Михаил Слонимский, Андрей Соболь, Абрам Эфрос или ничем не прославившая свое имя слушательница литературных курсов Зельма Гельфанд, тут, помимо прочего, проявлялась та же не отягощенная национальным чувством тяга к справедливости, которая приводила еврейских юношей и девушек в ряды заступников русского крестьянства — народников и эсеров. Лучше всего об этом сказал автор «Романа с кокаином» М. Агеев, он же Марк Леви, в поразительном рассказе «Паршивый народ».
Прилепин не ищет оправданий многочисленным есенинским безобразиям последних лет жизни, он даже редко пытается их объяснить. Что тут объяснять? Все понятно, оправдательные документы в виде стихов давно предъявлены, а сам Есенин уже настолько живой, что его органика не требует комментариев. В большинстве случаев Прилепин не старается и заполнить таинственный зазор между Есениным-человеком и Есениным-поэтом. Для него несомненно, что в самой этой загадке больше смысла, чем может иметь любой ответ.
Зато мнимые загадки его не интересуют. В искусственной тайне всегда есть дух пошлости, ее создателям изменяют и логика, и вкус. Версия об убийстве Есенина неприемлема для Прилепина не потому, что он как государственник и поклонник СССР не желает винить в его гибели советское государство, а потому что любая мутная конспирология вокруг смерти Есенина — оскорбление памяти не только его друзей, запросто объявляемых убийцами, но и самого поэта. Принять ее — значит трагедию подменить остросюжетной мещанской драмой с участием спецслужб, усомниться в том, что завершенность судьбы оказалась для него не совместима с продолжением жизни.
В есениноведении я профан. Не мне судить, насколько основательно и оригинально все то, что Прилепин говорит о стихах Есенина, но, если он хотел нарисовать портрет поэта с едва ли не случайно доставшимся ему чудным даром, упорно венчающего «розу белую с черною жабой», отмеченного «роковой печатью» или «особой метой» времени, в котором он жил, и народа, из которого он вышел, Прилепину это удалось. Его книга — из тех немногих, достоверно воссоздающих историю реальных людей, при чтении которых возникает ни с чем не сравнимое чувство, что пока последние страницы не перевернуты, жизнь героя еще длится.
Леонид Юзефович, «Горький»
28.07.2020