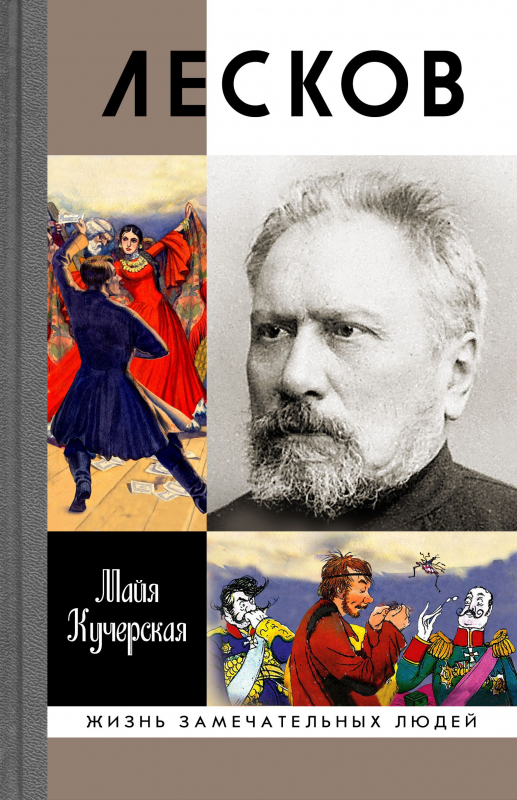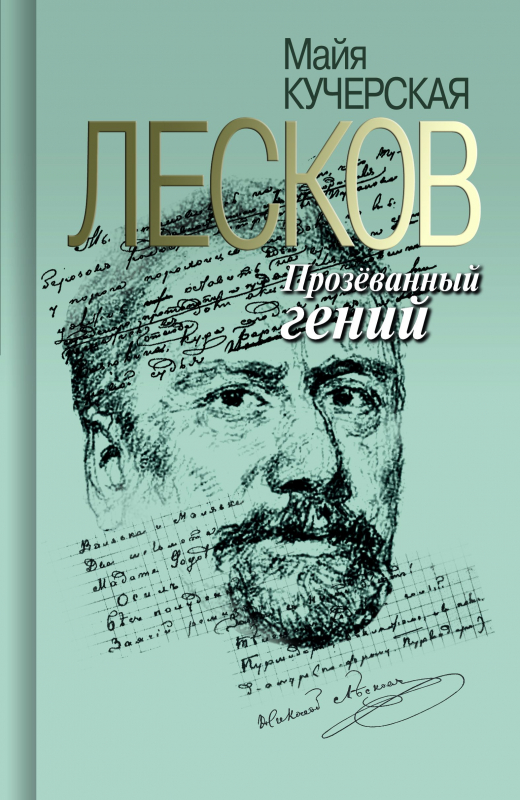Таких не берут в гении!
Лев Толстой назвал Николая Лескова писателем будущего. Пришло ли время Лескова (1831–1895), не умевшего сгибаться, юлить, плыть по течению, хотя страстно желавшего примкнуть, присоединиться, прославиться? Подошли ли мы к той правде, ради которой он ссорился с либералами и радикалами, приближал первую в нашей истории перестройку и предостерегал от безудержной веры в материальный прогресс? Пригодится ли сегодня опыт писателя, спускавшегося в своем творчестве с небес в бездну, — сотни вопросов встают со страниц книги Майи Кучерской «Прозеванный гений» (М., «Молодая гвардия», ЖЗЛ). Первая за 70 лет биография уникального писателя уникальна сама по себе. Начав читать, ты сразу понимаешь, почему ее автор, отмеченный читательской любовью и литературными премиями романист, выбрал в свои герои человека, чья проза живописна до боли в глазах. Как Лесков покинул политические ристалища ради «узорочья» слова, так и его биограф предпочел избитым литературоведческим тропам путь «художника слога». Вся ее огромная исследовательская работа уложена в подножье живой жизни, в которой ярятся, радуются, борются, предают, спиваются, творят и слышат гул почвы. Рубцы и шрамы, оставленные ХIХ веком, кровоточат до сих пор, вот почему разговор о писателе, истово пытавшемся их врачевать, так актуален сегодня.
— Понятно, почему Игорь Северянин назвал Лескова — прозеванный гений, он был чрезмерен в слове, как Лесков, но почему вы так озаглавили свою книгу?
— Мне очень хотелось, чтобы имя Лескова соединилось со словом «гений». Постояло с ним рядом, погрелось в его лучах, напиталось его сиянием. Потому что Лесков и правда был гений. Северянин объясняет в том же стихотворении, в чем. Лесков — «очарованный странник катакомб языка». Но гений он действительно «прозеванный». Прозевали его, потому что со своими карикатурами на нигилистов, а потом с протопопами, дьяконами и дьяконицами он все время не попадал в актуальную политическую повестку. Как профессиональный журналист, он прекрасно ее знал и чувствовал. Но никогда не пытался идти с кем-то в ногу, нередко все с кем-то совпадал, но сам он настаивал на своей непартийности. И был, конечно, «надпартийный» — слово из того же стихотворения Северянина. И к тому же обладал ужасным характером. Таких не берут в гении! Ни современники, особенно тогдашние законодатели мод, либеральные демократы, ни их наследники, советские чиновники, принимавшие решение о том, кого издавать, а кого погодить. Лесков оказался задвинут на всю половину ХХ века, но и вышедшее в середине 1950-х красненькое его собрание сочинений включает только треть из того, что он написал.
— Был ли Лесков мыслителем, как, по расхожему мнению, полагается гению?
— Нет, конечно. Художником, изографом, как филолог Борис Эйхенбаум о нем сказал, да. Умным, проницательным человеком — безусловно. Мыслителем — нет. И при всей своей независимости он всегда искал, чью систему ценностей можно принять как свою. В самом начале литературного пути это были русские революционеры, читатели и почитатели Герцена, Лесков поначалу высоко его ценил. Потом, видимо, испугался, особенно когда за чтение «Колокола» стали сажать в тюрьму. Но и искренне разочаровался тоже, либерализм его постепенно сделался намного более умеренным. Следующим после Герцена стал Катков. Михаил Никифорович, самый могущественный русский публицист в 1870–1880-е. Владелец трех изданий, использовавший свое огромное влияние ради того, чтобы уберечь Россию от падения в бездну нигилизма и революций. И литературу рассматривал как удобный инструмент пропаганды. Это ведь по сути он спродюсировал целое направление — серию антинигилистических романов, которые исправно публиковал его журнал «Русский вестник». И это он считал, что в романах нужно не только критиковать опасные тенденции, но и изображать людей образцовых, «положительный тип».
— Праведников?
— Именно! Думаю, что любовь Лескова к изображению праведников, тихих, незаметных святых людей окончательно оформилась под влиянием идей Каткова. Потом ненадолго Лесков сблизился с московскими славянофилами, с Иваном Аксаковым, но вскоре и панславизм его разочаровал. Следующим стал Лев Толстой. Лесков несколько лет тесно с ним общался и был им очарован, почти влюблен. Это заметно по письмам. Толстой был старше его всего на три года, но Лесков обращался к нему как к старшему. В поздние годы ему был близок толстовский нигилизм по отношению к государственным институтам, в том числе к церкви как институту. И на литературу как на площадку для проповеди истин добра и красоты он тоже смотрел в поздние годы за Толстым вслед. В этом инструментальном отношении к литературе он неожиданно вновь приблизился и к катковской модели, но ничего у него не получилось, по счастью.
— Одной из любимых идей Лескова, как следует из вашей книги, была идея улучшить мир, влиять на умы и сердца. Какими средствами он пытался этого достичь?
— В том-то и дело, что средств этих у него было немного! Кроме слова — никаких. Он очень старался. Но
в отличие от Толстого полноценной проповеди в художественных текстах произнести не умел. Слишком был художник, слишком увлекался красками языка…
С ним случилась смешная история. Однажды Толстой подарил ему сюжет. Про самый важный на свете час, самого важного человека и дело. Лесков написал сказку «Час воли божией». Она получилась длинной, со смешными, никакого отношения к делу не имеющими персонажами и кучей зверей, там есть такая девушка-доктор Айболит с зайцем, драными козами, журавлем с больной ножкой… Самый важный на свете час, человек, дело отошли на восьмой план. Толстой был сильно раздосадован, но досаду скрыл за двусмысленным комплиментом: «излишек таланта». И когда Лесков умер, исправил проваленное дело — написал сказку на тот же сюжет. Против лесковских 24 страничек — выставил одну! И название дал ясное: «Три вопроса». Так что как ни хотел Лесков менять мир с помощью слова, как Толстой, получалось все равно «как Лесков».
— Лесков чаще других современных ему писателей обращался к теме духовенства. Это как-то связано с его происхождением и учением?
— Думаю, происхождение сыграло в этом огромную роль. Все предки Лескова по отцовской линии служили в церкви, весь ХVIII век, а может быть, и до этого тоже, просто дальше следы теряются. Отец Лескова, Семен Дмитриевич, не стал священником, порвал со своим сословием, но все равно, повадки, склад речи и мышления выдавали в нем выходца из семинарии, грубоватого, без обхождения бурсака. И, главное, круг общения отца был ему под стать. Когда Лесков учился, а затем служил в Орле, он унаследовал и отцовский круг общения, в который входило немало духовных. Священники, дьяконы были Семену Дмитриевичу гораздо в большей степени свои, чем чиновники в Орловской уголовной палате, где он служил. Например, мы знаем, что преподававший Лескову Закон Божий Ефимий Остромысленский был дружен с отцом. Каждый раз, когда читаю «Соборян», дневник Савелия Туберозова, я вздрагиваю от ощущения подлинности: склад речи, дух, интонации — священнические. Кажется, это действительно писал батюшка. Но это писал Лесков! Как он сумел настолько изнутри понимать и чувствовать психологию и образ мыслей священника? Ответ один и не слишком удовлетворительный. По наследству.
— Почему он придавал особое значение этому сословию?
— Статус ответа на этот вопрос — «все сложно». Лесков очень хотел, чтобы православная церковь учила людей главному, по его мнению, в христианстве — любви и свободе. Но слишком ясно видел, что церковь к этому не готова. И прежде, чем она станет подлинным воспитателем, церкви и духовенству нужно измениться. В романе-хронике «Соборяне», в документальных «Мелочах архиерейской жизни», «Архиерейских объездах», публицистических заметках он писал, в чем должны заключаться эти изменения. Проповеди любви препятствовало многое: устаревшие церковные законы, невежество и неразвитость духовенства, его материальная зависимость от собственных прихожан. Чтобы церковь задышала, надо освободить ее и от жесткой власти архиереев, ввести самоуправление, словом, добавить свободы во всем…
— Звучит довольно современно.
— К сожалению, да. Многие проблемы, о которых с болью писал Лесков, не решены до сих пор. Реформа духовного образования, проводившаяся на рубеже 1860–1870-х, начала была рубить эти заплесневелые гордиевы узлы, но с задачами не справилась, реформа захлебнулась. А уж когда в 1880 году «Победоносцев над Россией простер совиные крыла», став во главе Синода и церковной политики, все живое, что едва-едва начало пробиваться, застыло.
— Почему, за чтобы Лесков ни выступал, на него набрасывались в первую очередь те, кому он хотел добра, те же священники, за улучшение жизни которых он ратовал?
— Всерьез набрасывались все же не священники, а церковные чиновники. Тот же Победоносцев, взявший курс на запретительные меры и изоляцию русского православия от европейского христианского мира. Свободная церковь ему была не нужна. Вообще-то эта логика известна нам с евангельских времен. Первосвященникам всегда тяжело было слушать правду. Это хорошо, хотя и страшно описано и в «Великом инквизиторе» Достоевского. Перечитывая эту поэму Ивана Карамазова, я всегда думаю: ну, а если бы в наш ХХI век пришел Христос и начал свою проповедь, как приняла бы Его современная христианская церковь, православные, католики, протестанты? Как отнеслось бы к Нему и начальство всех этих церквей, и простые прихожане?
— Ну, и как по-вашему?
— Не знаю. Точнее не решаюсь всерьез предположить. Но боюсь, все бы повторилось. В других формах, но в мире людей Хриcтос обречен на гибель. Очень уж трудно перенести правду о себе.
— Если героев Достоевского мучают сомнения в существовании Бога, героев Толстого занимает мистическая природа Церкви, то Лескову интересна христианская религиозность как явление — в культурном, социальном, психологическом контексте. Может ли его опыт пригодиться сегодня, когда религия снова занимает большое место в сознании общества?
— Начну с конца. Что-то я не вижу, чтобы религия, если под ней понимать связь с Богом, снова занимала в общественном сознании большое место. По-моему, всё наоборот.
И общество, по крайней мере нынешние молодые люди, 20–30-летние, дружно двигаются в сторону не Бога, а человека и безоговорочного доверия тому, что человек чувствует и хочет.
Особенно в отношении гендера и свободы выбора — и это в области, которая еще полвека назад считалась данностью, константой. Кстати, у Лескова есть поздняя повесть «Зимний день», в которой он касается однополой любви и педофилии. Он не выносит прямых оценок, но в общем понятно, что для него и то, и другое — явления одного порядка. В частном письме, опираясь на библейские образы, он прямо называет их «Содомом и Гоморрой». Проповедуя толерантность к инородцам и к любым конфессиям, отстаивая права евреев и в этом сильно опережая свое время, в вопросах гендера Лесков оставался вполне человеком своего времени. Что же до религиозности, да, вы правы, ему нравилось ее исследовать, и он очень любил «напряженность религиозного чувства» в любом, необязательно ортодоксальном православном, но и в старообрядце, и в сектанте, и в язычнике, как в рассказе «На краю света». Очевидно полагая, что именно эта связь с высшими силами и делает человека человеком. И согревает его. У Христа «за пазушкой», как выражается один лесковский герой, легче перенести холод бытия.
— Лесков полагал, что религиозность утончает душу. При этом в «Очарованном страннике» инок Иван избивает кошку, и это насилие описывается как норма в том мире, который принято считать носителем религиозных начал. Где связь?
— Любимый его герой, Савелий Туберозов об этом сказал просто и ясно: «Христианство на Руси еще не проповедано». Николай Семенович не сомневался: не проповедано. Произносилось это в те времена, когда христианству на Руси исполнилось без малого девять веков. Но почему же не проповедано? Да вот потому, например, что насилие, а до 1861 года и рабство в русском мире оставалось нормой.
— Жестко и неприглядно описывая мужика, Лесков спорил, например, с Достоевским, считавшим, что спасение России надо ждать снизу, или с народниками, поклонявшимися мужику, или просто старался быть честным писателем?
— Думаю, хотел быть честным. Достоевский слишком легко подчинял факты стройности концепции. Лесков, как мы говорили, в отличие от Достоевского не был мыслителем, был в большей степени только писателем и наблюдателем. И, может быть, поэтому смотрел на русского мужика трезвее, чем Достоевский, да и многие народники. Достоинства русского крестьянина он видел, народную поэзию тоже ценил, но в отличие от Достоевского не сомневался: мужик не может стать учителем образованных сословий. И писал о том, что любя свой народ, не стоит «видеть особую прелесть и в грязных ногтях, и в чуйке, и в сивушном запахе, а тем паче в стремлении к кривосудству».
— Вы подробно анализируете отношение Лескова к нигилистам и политическому мошенничеству. Какие переклички особенно важны в «Бесах» Достоевского и «На ножах», важен ли роман Лескова сегодня, когда страх революций не только внедряется властью, но и живет в народе?
— Интересно, что «Бесы» и «На ножах» писались почти одновременно. Так что о прямом влиянии текстов друг на друга говорить невозможно. Оба романа вдохновлены отвращением к нигилистам, убежденностью в том, что да, революционеры — политические мошенники. Хотя Лесков вывел в «Некуда» и двух честных, чистых нигилистов — Лизу Бахереву и Райнера. В «На ножах» есть уморительная девица Ванскок, тоже честная и чистая, но все-таки идиотка. Достоевский, кстати, именно ее в романе «На ножах», который ему не очень понравился, горячо похвалил за точность.
— Лесков всегда оказывался в центре разнообразных скандалов. Сказывался ужасный характер или это была осознанная установка, чтобы привлечь внимание?
— Думаю, он счастлив был бы обойтись без скандалов. Но не мог. Тяжелый характер, бешеный темперамент, от отца и деда унаследованная прямота и нетерпеливость, «нетерпячесть», как он это называл. Лесков сам все время нарывался и подставлялся. Смолчать, сдержаться — ну, нет! Вот и дрался, чаще на страницах газет, но иногда почти буквально, как, например, однажды в Ревеле, с оскорбившими русское национальное достоинство, немцами. Судя по всему, Лесков ударил тогда одного из обидчиков палкой, хотя сам он это отрицал.
— Он любил всякого рода диковины — языковые, человеческие, материальные. Его интересовало отклонение от нормы?
— Да, конечно. Любого художника интересует именно отклонение от нормы, нарушение границы, разрушение шаблона. Как известно, все, что гибелью грозит, для сердца грешного таит (для сердца художника особенно!) неизъяснимы наслаждения. Напомню, что европейская литература выросла из корня античной трагедии. То есть выросла из страдания и сострадания, катарсиса. Не из нормы, из отступления от нее. Потом литература стала учиться описывать рутину, обыкновенные истории и обыкновенных людей. Но это уже после того, как отгремел романтизм, и обаяние байронических одиночек перестало действовать… Но Лесков в был особенно яростным любителем отклонений, эдаким страстным коллекционером диковинок во всех смыслах. Собирал старинные вещицы, странные словечки и необыкновенных, старинных, людей в своих книгах. Отсюда же любовь к старообрядцам и сектантам. Потому что все, что оказывалось по ту сторону нормы, вдохновляло его, будоражило воображение.
— Его языковая прихотливость, «избыток таланта», по словам Толстого, которому она мешала верить Лескову на слово, а Пильняку, Замятину, Олеше, Бабелю, Зощенко, как вы пишите, помогла стать самими собой, влияет ли на сегодняшних литераторов?
— Прямо уже нет. Опосредованно, конечно. Просто подражая Ремизову, вступая в перекличку с Пильняком или Олешей, современный литератор, особенно молодой, часто не понимает, на чьи языковые эксперименты опирались они, его любимцы.
— А вы это не обсуждаете на своих занятиях в магистратуре во ВШЭ?
— Недавно у нас на занятии вспыхнул спор не спор, но дискуссия. Студенты, которые учатся на литераторов, удивленно спросили, почему мы так много обсуждаем всех этих пропахших нафталином русских классиков и так мало говорим о современных авторах. Ну, во-первых, это не так. Мы много говорим о современных авторах, и два курса у нас посвящены им исключительно. Но, во-вторых, о тех, что прописаны в литературной вечности, да, пожалуй, мы говорим заметно больше. Казалось бы, понятно почему.
Но я вдруг осознала впервые с такой остротой, что для поколения 25-летних это непонятно. Что там Лесков… Даже Ремизов или Хармс — для них древность.
Показывать, как работают модели, сюжетные, языковые, да любые, удобнее, опираясь на образцовые тексты. Но теперь это приходится объяснять. И тихо напоминать о «пене дней», о слишком быстро сменяющейся повестке и невозможности угнаться за ней, особенно если ты художник, а не публицист…
— Вы верите в то, что после выхода вашей книги что-то изменится в отношении к Лескову?
— Я об этом мечтаю. Я очень рада, что дело сделано, первая за 70 лет биография Лескова вышла. Повлияет ли его проза на современных литераторов? Не думаю. Но перечитывая хотя бы цитаты из Лескова в моей книжке, они могут задуматься, почему прежде изящная словесность в тяге к увлекательности сюжета, нынче охватившей всех, не забывала и о языковой игре, об эстетическом измерении стиля, «самовитом слове». Это полезные для профессионального прозаика вопросы. Лесков помогает найти на них ответы.
Если кто-то откроет для себя рассказы Лескова, язвительные, острые, чудно написанные — очень хорошо. Но если к тому же сдвинется с мертвой точки издание его тридцатитомного собрания сочинений, застрявшего на тринадцатом томе четыре года назад, вот это действительно будет счастье. Послушайте, гений, классик, который до сих пор не издан, не откомментирован – это нормально? Будет здорово, если новая биография Лескова сдвинет что-то в мироздании, ну, хотя бы книгоиздании, и дело публикации его сочинений все-таки завершится.
Ольга Тимофеева
«Новая газета»
17.12.2020