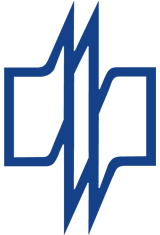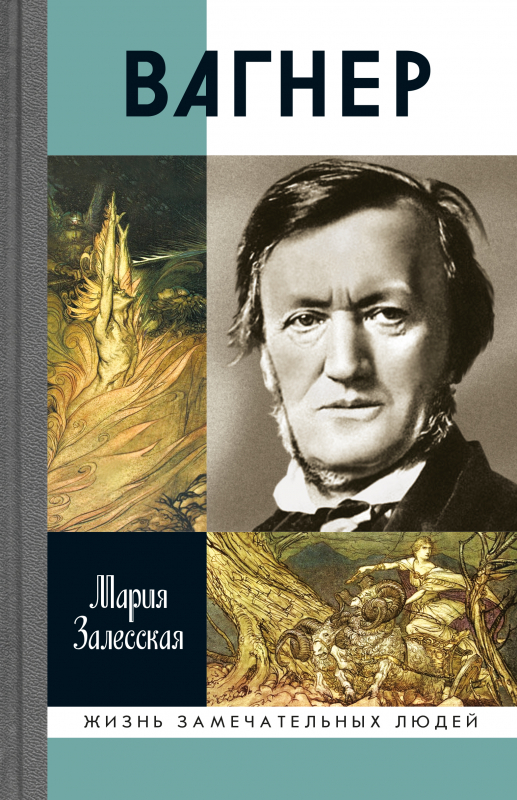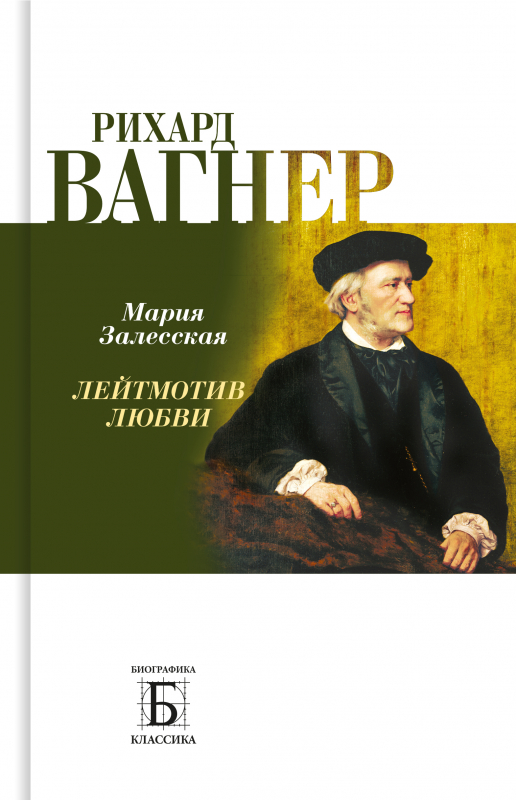«Два главных зла по Вагнеру — это мода и коммерция»
Главный редактор издательства «Молодая гвардия», известный писатель-биограф и музыковед Мария Залесская — об искупительной силе искусства, любимом композиторе молодого Ницше — и о книгах по цене килограмма вырезки.

— В вашей новой книге о Вагнере вы пишете, что вокруг творчества композитора до сих пор не утихают споры: у одних оно вызывает фанатичный восторг, у других — стойкое неприятие. Виной тому — стереотип, что Вагнер, а вслед за ним Ницше, мол, породили идею о сверхчеловеке, лёгшую в основу нацистской тирании XX века…
— Любой режим пытается притянуть гениев прошлого буквально «за уши» к актуальной идеологии, оправдывая таким образом своё собственное существование. Мне очень обидно, когда говорят, что Вагнер, дескать, — любимый композитор Адольфа Гитлера. Философия жившего в XIX веке Вагнера — одна из самых гуманистических: её можно было бы как раз противопоставить идеологии Третьего рейха. Но композитору не повезло: он оказался слишком удобен страшному режиму. Все эти Зигфриды в рогатых шлемах, валькирии с копьями… Но на самом-то деле идея «сверхчеловека» у Вагнера выражалась именно в женских образах, способных на жертвенную любовь — то самое чувство, что приближает человека к Богу. Это и Сента из «Летучего голландца», и Изольда из «Тристана», и Брунгильда из «Кольца нибелунга». И даже соблазнительница Кундри из «Парсифаля» — одновременно и Ева, олицетворяющая первородный смертный грех, и искупительница Мария Магдалина. Вообще, зрелые оперы Вагнера можно рассматривать как своего рода анализ, анатомирование христианской идеи, имеющей параллели и в германской мифологии. Так, если главная тема «Летучего голландца» — это искупление любовью проклятия одного человека, то «Парсифаль» — это о спасении состраданием человечества в целом.
— Музыковеды утверждают, что всю историю мировой оперы условно можно разделить на два периода: «до Вагнера» и «после Вагнера». Его влияние испытали и Штраус, и Малер, и Римский-Корсаков, и вся Нововенская школа, включая изобретателя додекафонии Арнольда Шёнберга и его многочисленных учеников, среди которых были и советские композиторы-авангардисты. В чём же состоят музыкальные открытия Вагнера?
— В приближении музыки к драме жизни. Неслучайно он называл свои оперы музыкальными драмами и в основу текста либретто ставил речитатив.
Другое открытие Вагнера в том, что он полностью отказался от так называемой «номерной» структуры оперы, при которой каждая часть, — будь то ария, дуэт или балетный дивертисмент, — завершались аплодисментами, таким образом прерывая общую сюжетную линию. Вагнер же вместо этого «пунктира» предложил «бесконечную мелодию» (как непрерывно сценическое действие, так непрерывна и музыкальная линия — одно событие рождается из другого) и систему лейтмотивов (индивидуальную краткую музыкальную характеристику действующих лиц). При этом Вагнер во всём стремится к идеалу — гениальное либретто, гениальная музыка, гениальные певцы и музыканты. Он был поборником идеи «религии искусства»: видел в опере нечто сродни литургии, в театре — храма. Вагнер считал, что у искусства и церкви одни и те же цели, как это ни парадоксально. Но несмотря на всё своё мессианство, Вагнер — это человек своего времени: любил дорогую качественную одежду, хороший парфюм, изысканную еду. Не умел считать деньги; его всю жизнь преследовало безденежье — как Пушкина.
— Как относитесь к современным постановкам Вагнера — например, Дмитрия Черникова и Константина Богомолова? Там ведь в первом случае валькирии сидят в спортзале, а Зигмунд и Зиглинда только что переехали в таунхаус, а во втором — вместо либретто на экраны транслируются актуальные шутки и анекдоты… Стоит ли осовременивать классику?
— Вагнер — один из самых исполняемых сегодня композиторов. Его музыкальное наследие становится ныне обширным полем для экспериментов. Не скажу, что любое перемещение классики в современные реалии сразу плохо: если сохраняется основная идея автора, то в какие одежды героев ни ряди, — всё получится. Я сейчас вспоминаю постановку «Летучего голландца» на Байройтском фестивале в 2012 году, решённую в самых, скажем так, радикально постмодернистских тонах: там на сцене не было ничего, кроме коробок и вентиляторов, — потому что действие было перенесено на завод, где делают вентиляторы. В первоисточнике речь идёт о Норвегии XVI века, — но метафора-то работает: вентиляторный завод — это же производство денег «из воздуха»! Тут нужно пояснить, что для Вагнера существовало два главных мировых зла: коммерция (торгашество) и мода, неизбежно опускающие личность до уровня «человека из толпы».

Мариинский театр. Опера Рихарда Вагнера «Летучий голландец». Даланд — Алексей Тановицкий, Рулевой — Сергей Семишкур. Фотография: mariinsky.ru
— Говоря в стилистике Вагнера — в чём главное зло сегодня в издательском бизнесе?
— В коммерции! В катастрофическом росте цен на книгу. Дорожает всё: бумага, типографские услуги, логистические цепочки… В итоге издательству от читателей «прилетает»: звонят, возмущаются, мол, почему у вас так подорожали книги? А магазины добавляют ещё и свою «накрутку»… В итоге книга сегодня стоит не менее 900—1200 рублей — как килограмм вырезки…
— Зато биографии в серии «ЖЗЛ» не подвержены моде, а значит, — интерес к ним не угасает по окончании маркетинговых мероприятий (как это часто бывает у издательств, делающих ставку на актуальные новинки)?
— Да, но во всём есть свои плюсы и минусы. Хорошо, что на серию «ЖЗЛ» всегда есть запрос от так называемого широкого круга читателей, — ведь она затрагивает все сферы деятельности и всю история мировой культуры, от науки и спорта до искусства и военного дела. Наш читатель стабилен, проверен и верен, — в этом плане жаловаться грешно. Но при этом мы не можем себе позволить за редким исключением выпустить книгу тиражом, скажем, в 35 тысяч экземпляров, с которых иногда стартует «Эксмо» с каким-нибудь модным проектом…
— Каких хитов ждать в 2025-м и что «взлетело» в ушедшем году?
— В прошлом году мы завоевали «Книгу года» с книгой «Нюрнберг вне стенограмм». Её можно назвать детальными комментариями к такому масштабному историческому полотну, как Нюрнбергский трибунал. А толчком к написанию этой книги стали уникальные воспоминания Ольги Табачникой-Свидовской, одной из переводчиц с советской стороны. Очень личные записки молоденькой девушки, те детали, что обычно выносятся историками «за скобки», остаются вне официальных стенограмм…
Также, совместно с ИМЛИ РАН мы выпускаем собрание сочинений Михаила Шолохова к его юбилею — 120-летию со дня рождения. Особо необходимо отметить академическое издание «Тихого Дона» и «Поднятой целины» с текстологическими комментариями. Настоящий подарок для любителей литературы!
Смотрите также: Рихард Вагнер — история мировой оперы до и после
Наконец, недавно у нас вышла первая биография Константина Паустовского, автором которой является известный писатель Олег Трушин. Эта книга идеально сочетает в себе мощный научный аппарат и лёгкость литературного языка. В 2025-м очень ждём от того же автора биографию Ольги Берггольц. Будет книга тяжёлая, страшная, пронзительная — но обязательная к прочтению. Настоящий патриотизм — это Знание. Иначе — просто слова…
Дарья Ефремова, «Вечерняя Москва» (№ 26 (29947), 13 февраля 2025 года)